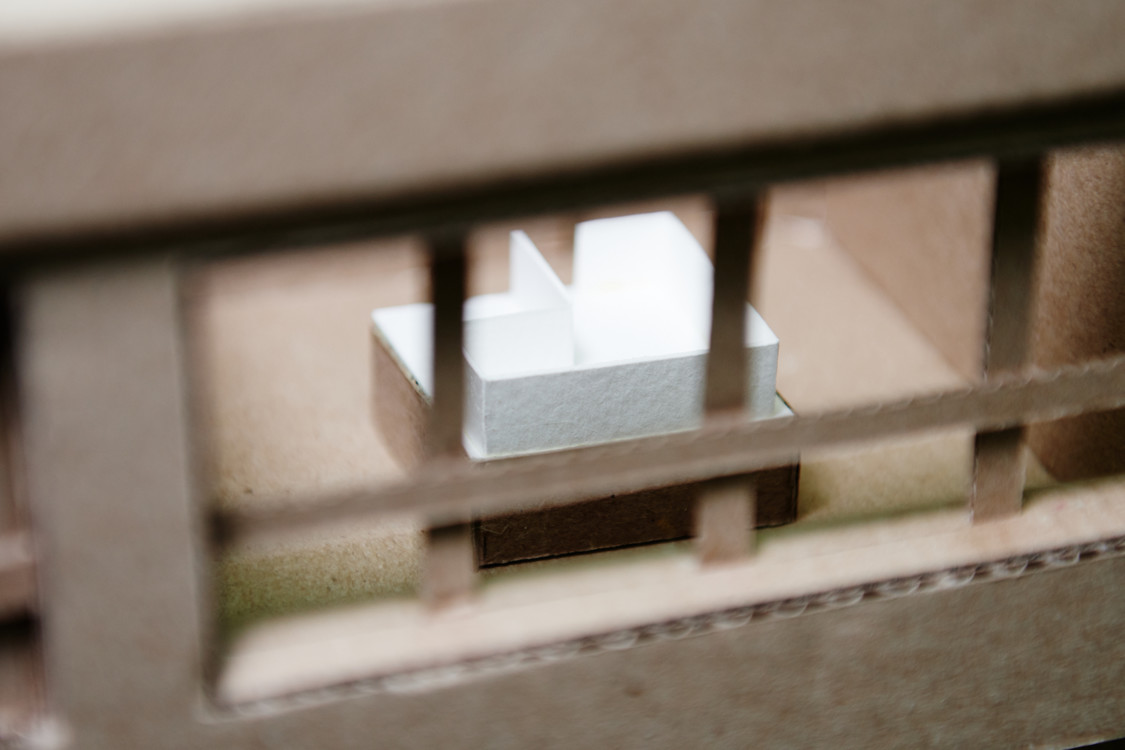Художница Леся Хоменко о живописи, провинциальном искусстве и арт-группе Р.Э.П.
У художницы Леси Хоменко, представителя известной в Киеве художественной династии, открылась персональная выставка “Перспективная” в рамках PAC UA в PinchukArtCentre. Куратор выставки Ксения Малых расспросила Лесю об актуальности живописи, арт-группе Р.Э.П. и о том, может ли художник в ХХІ веке изобрести что-то заново.
 Леся Хоменко
Леся ХоменкоКсения Малых: Леся, почему ты училась на сценографа, а не на живописца?
Леся Хоменко: Я поступила на сценографию потому что я видела, что там свободнее и можно экспериментировать. И театр был мне близок, ведь я ходила в экспериментальную театральную студию Черкова два последних года школы, где мы занимались в основном импровизацией по принципипам польского театра Ежи Гротовского в духе экспериментального театра середины ХХ века. У меня даже в какой-то момент были сомнения, что выбрать вообще — живопись или театр. Я поняла, что в визуальном искусстве я смогу реализовать больше.
В Академии моя учеба проходила с переменным успехом. Все-таки это слишком длительное обучение, целый период в жизни, за который бывали фрустрации из-за отсутствия круга единомышленников.
 Леся Хоменко и Ксения Малых
Леся Хоменко и Ксения МалыхКМ: Но Р.Э.П. (группа художников, в которую входили Жанна Кадырова, Никита Кадан, Леся Хоменко, Ксения Гнилицкая, Лада Наконечная и Владимир Кузнецов) же все равно в Академии сформировался?
ЛХ: На выпускном курсе. Но я всех узнала через Жанну Кадырову, которая вообще в Академии не училась.
КМ: Что самое главное ты получила в Академии?
ЛХ: Метафорическое мышление. Когда предмет может рассказать историю. У театральных художников ограниченный инструментарий и потому предмет должен быть очень выразительным. Например, как предмет на сцене может рассказать, что идет снег? Можно задуть баллончиком полы шинели.
Даниил Данилович Лидер нам очень-очень много историй рассказывал про свои постановки, про другие постановки, как он что придумал. Просто наблюдения из жизни рассказывал и постоянно нам повторял, что мы учимся не на сценографов, а мы учимся быть художниками.

КМ: Каким художником в будущем ты себя представляла во время учебы?
ЛХ: Очень смешно это сейчас вспоминать, но еще в школе я представляла себе большие выставки с большими работами. В Академии на ранних курсах я представляла, что буду делать через 10 лет какие-нибудь голограммы. Как в фильмах показывают 2050 год, а там машины летают. Современное искусство представлялось мне таким, но у меня не было каналов входа в него. Позже, во время Оранжевой революции мы с Ксюшей Гнилицкой, Жанной Кадыровой, Вовой Кузнецовым наколбасили каких-то картин прямо на снегу и хотели их повесить на Крещатике и не знали где стремянку взять, и мы пошли в Центр Сороса за стремянкой.
КМ: Это был ваш вход в современное искусство.
ЛХ: Да, при этом через очень герметичную институцию, которая мне казалась недостижимым храмом. В итоге Ежи Онух предложил нам использовать помещение Центра как мастерскую в течение двух месяцев, а мы остались больше чем на 3 года. Мы работали там во время революции целой толпой. За редким исключением все делали живопись. Тогда нашим методом была апроприация тех народных вещей, которые возникали на Майдане.

КМ: То есть вы постоянно очень быстро рефлексировали по поводу текущих событий?
ЛХ: Мы очень быстро реагировали и это было удобней всего делать с помощью живописи. Мы писали не пропагандистские холсты, а скорее выявляли симптоматику.
КМ: А что ты делала на Майдане 2014?
ЛХ: Я сделала работу об отношениях искусства и реальности, когда реальность находилась в своей крайней в точке, в пике. это не рутинная реальность, а экстраординарная. Система отношений на Майдане строилась на обеспечении базовых потребностей и бесплатном обмене. Я бесплатно рисовала портреты, оригинал отдавала людям, себе оставляла копию, сделанную под копирку. Одна уникальная копия, которая оставалась у меня — в системе искусства была ценнее, чем оригинал.

КМ: Как сейчас, в ХXI веке, художник по-прежнему ищет что-то новое, ведь кажется, что все уже изобретено?
ЛХ: Если художник что-то очень хорошее придумал, то он точно попал в какую-то работу семидесятых. Потому что в 1970-х придумали все, что есть сейчас.
Я делю себя на художника рефлексирующего и художника-животное. Когда я пишу живопись, я становлюсь животным.
КМ: Но все равно ты не даешь полную волю своему животному. Ты же решаешь своей живописью определенные задачи.
ЛХ: Да, в этой выставке (“Перспективная” в PinchukArtCentre – прим. ред.) у меня живопись такая, потому что я хотела сделать ее плотной поверхностью. Чтобы фигура не выделялась, не доминировала над средой, в которой она находится, и чтоб в каждой картине было не ясно, что важнее: пейзаж или фигура.
КМ: Как художнику быть современным?
ЛХ: Мне нравится последние годы думать о себе, как о провинциальном художнике. Страх вторичности сковывает всю постсоветскую и восточноевропейскую художественную среду. Раз мы на территории искусства, то это как раз то место, где мы всегда что-то критикуем. Мы часто критикуем что-то, что внешнее по отношению к нам, “кто-то в интернете всегда не прав”. Кто-то везде не прав, а мы — нулевая точка, в которой преломляется свет. А мне интересно посмотреть на себя в зоне моих страхов, моего дискомфорта, резко обернуться и посмотреть.
И когда ты это принимаешь, начинаешь с этим отстраненно работать как с инструментом, появляется спокойствие. Потому что провинциальный — не значит маргинальный, не значит неактуальный, это просто такая точка. При этом центра очень мало, а периферии — очень много. И периферия сейчас интересней чем центр, центр — уже.
 Леся Хоменко
Леся ХоменкоКМ: Территория искусства дает разные виды свободы.
ЛХ: Мне нравится думать, что искусство — это пятое измерение. К этому меня привел преподавательский опыт. У меня полугодичный авторский курс в КАМА по современному искусству. И мы на этом курсе говорим о принципиальных базовых вещах, которые нужно понимать о современном искусстве: о том, что его делает современным, что искусство делает искусством, где его грани. Выполняем иногда смешные и дурацкие задания. Например, выставка “Перспективная” тоже в каком-то роде лабораторное задание, которое я сама себе задала. Задача схожая с той, которую я ставлю студентам — выстроить нелинейное повествование. Когда одновременно работает очень много смыслов и нет ничего главного и все происходит одновременно. И я им всегда говорю, что если ничего не получится, то это не страшно, потому что правильных ответов у меня нет.
Эта практика очень важна для того времени, в котором мы сейчас живем. Из-за войны и бурных информационных потоков нам нужно очень быстро определять свою позицию, принимать какую-то сторону и знать ответ на вопрос, что хорошо, а что плохо. Все стало однозначным и бинарным. В искусстве же можно сохранить пространство, в котором нет добра и зла, как в математике.

КМ: Какие самые странные задания ты даешь студентам?
ЛХ: Когда мы размышляем о медиа, они делают работу из еды. Еда сама по себе уже имеет свойства китча: она должна быть вкусной и красивой, иначе она неуспешная. И как раз на этом примере можно показать где эта грань между китчем и авангардом. Есть еще интересное задание: найти в себе силы рассматривать людей в публичном пространстве и не стесняться, потому что ты художник и тебе разрешено пялиться, ведь ты собираешь визуальный материал. Или же сделать, например, перформанс в публичной среде и никому никогда об этом не рассказать. Таким образом я сталкиваю студентов с потребностью в репрезентации, которая сегодня усилена соцсетями. Когда начинается искусство? Когда об этом заявлено или когда это произошло как процесс?
КМ: И будешь ли ты это воспринимать серьезно как искусство?
ЛХ: Да, то есть для меня искусство становится политическим после репрезентации. Без этой системы отношений между публикой и художником этого не происходит.
КМ: Как ты относишься к дискурсу по поводу актуальности того или иного инструмента?
ЛХ: Я очень много слышу об этом в последнее время. Например, “сейчас актуально кино”. Это сразу в угол загоняет, когда ты ориентируешься на какие-то удачные вещи. К нам в КАМА многие студенты приходят с базовым академическим образованием. А мы работаем больше над мышлением. Это то, чего не дают в нашем официальном образовании.

КМ: Но ты при этом остаешься в живописи.
ЛХ: Я остаюсь в живописи, но считаю себя критическим художником. Эта дифференциация скорее является проблемой кураторов и критиков, которые что-то любят, а что-то не любят, им нужен катарсис, чтоб художник на грани жизни и смерти стоял, тогда им будет о чем написать. А художники мыслят языком. И нет никакого рейтинга медиа. И мы на занятиях все медиа рассматриваем нейтрально. Из чего оно состоит? Это со временем работает, а это с пространством, а это приятно воплощать, а это изнуряюще. К концу курса я стараюсь каждому дать в руки индивидуальный инструмент, вытянуть из человека то, с чем он может работать дальше.
Фото: Юрий Яцкулич