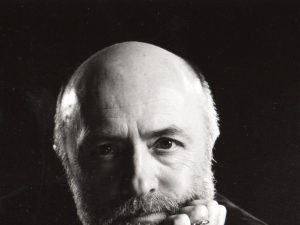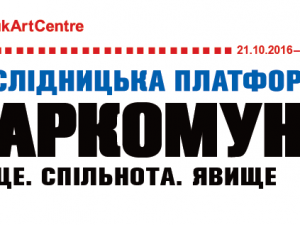Пов'язані профайли художників
Пов'язані профайли персоналій
Пов'язані виставки
Выставка «Паркоммуна. Место. Сообщество. Явление» стала одним из заметных художественных событий последних лет – и как одно из проявлений тенденции «новой архивности» или «поворота к памяти» в украинском искусстве, и как пример работы с собственным прошлым, собственной памятью (и собственным беспамятством) этого искусства. Прошедшее после выставки время создает достаточную дистанцию, чтобы увидеть, что «Паркоммуна. Место. Сообщество. Явление» оказала существенное влияние на местную художественную ситуацию. Prostory обратились к кураторкам «Паркоммуны» Татьяне Кочубинской и Ксении Малых с предложением публично обсудить мотивации, методологию и подводные камни работы над выставочным проектом. Мы публикуем этот диалог передпрезентацией книги, подготовленной на основе материалов выставки.
Парижская волна
Постфактум о намерениях
«Паркоммуна. Место. Сообщество. Явление» – это история о сквоте, который существовал в Киеве в начале 1990-х годов. Для нас выставка о Паркоммуне – это в первую очередь взгляд на исторические материалы и возможность показать контуры будущего архива, над созданием которого мы сейчас работаем. Поэтому выставка – еще и указание на один из возможных способов написания локальной истории искусства.
Выставка получилась очень повествовательной, нам не кажется, что в ней есть сильный критический потенциал. Это рассказ о явлении, рассказ, который мы, не будучи свидетелями художественных процессов тех лет, можем себе вообразить и рассказать. Нам было важно разобраться в том, что же такое «Парижская коммуна». Какие работы были созданы, что представляет собой наследие «Парижской коммуны», какие художники имеют отношение к этому кругу? Ведь как бы там ни было, но представление о Паркоммуне во многом складывается из устных историй и воспоминаний, и в первую очередь представляется как sex, drugs & rock’n’roll. Но что стояло за явлением, что было создано тогда, какие произведения искусства – и было ли в них новаторство? Что стоит за этим драйвом и энергией? Мы обе не сторонницы сугубо архивных выставок, и в «Паркоммуне» было важно рассказать историю через произведения искусства с вкраплением архивных материалов, цитат свидетелей эпохи, дополнительных элементов – как карта, созданная Кириллом Проценко, или прогулка с Александром Соловьевым по местам былой славы, ведь аура места – очень важная составляющая Паркоммуны. Весомым и значимым нам представлялось продемонстрировать связь Паркома с бюрократическим аппаратом. И если в начале подготовки выставки было желание развенчать миф о бунтарстве паркомовцев и показать их связь с бюрократическим официозом, то ближе к ее открытию стало ясно, что особого бунтарства не было, да и связь с аппаратом была ситуативной и необходимым условием существования. Не было еще другой системы, не было иных механизмов, не существовало альтернативных выставочных пространств, поэтому естественным образом использовалось имущество Союза художников.
Поэтому основная идея выставки заключалась в прописывании одной из возможных историй конкретного явления – творчества круга художников, которые жили в сквоте на ул. Парижской Коммуны и близлежащих улицах. Выставка абсолютно повествовательна, а вот критический момент, надеемся, будет присутствовать в одноименной книге.
Татьяна Кочубинская, Ксения Малых

Разговор
К. M.: В общем, если говорить о мифах вокруг «Парижской Коммуны», то главный из них – это изученность этого явления. Он родился благодаря харизматичности и успешности отдельных участников процесса. А на самом деле кроме Соловьева «Паркоммуной» особо никто не занимался, по крайней мере хоть сколько-нибудь последовательным анализом явления.
Т. К.: Если взять литературу о «Паркоммуне», то большинство материалов рассматривают ее в контексте «Новой волны». Но сами понятия «Новой волны» и «Парижской коммуны» не проблематизированы и не изучены, нет единой искусствоведческой рамки, понятие «Новой волны» вообще остается крайне размытым. По сути, из материалов о «Паркоммуне» в доступе лишь несколько текстов в Livejournal и статьи Соловьева. А также бесконечные мемуары, на которые мы опирались.
К. М.: Опирались, потом переставали опираться, потом подвергали их всяческим сомнениям и анализу.
Т. К.: Повторю, изученность Паркоммуны и есть самый большой миф. С одной стороны, не хочется использовать риторику первенства, характерную для украинской художественной среды, но, как бы это пафосно не звучало, наша выставка – это первая попытка осмыслить «Парижскую коммуну» посредством выставочной практики.
К. М.: Да, можно, конечно, вспомнить выставку «Художники Парижской коммуны» 1991 года. Но там совершенно не стояла задача проанализировать явление или показать этих художников как сообщество. Абсолютно нет! Перед Соловьевым тогда были совершенно другие задачи. В первую очередь, презентовать это как «локальный бренд» украинского современного искусства.. Появлялись первые банки, соответственно, возникали корпоративные коллекции, и Соловьев пытался воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы приучить новую бизнес-элиту молодой страны собирать и поддерживать молодое искусство. Задача была совершенно другая: как бы так очертить немножко карандашиком, что художники «Парижской Коммуны» – это и есть наше украинское, современное, молодое искусство.
Т. К.: В украинском комментировании искусства есть общее место, что «Парижская Коммуна» – это по умолчанию и есть «Новая волна». Вообще любое высказывание о 1990-х воспринимается как синоним «Новой волны». И можно вспомнить, когда мы готовились к «Паркоммуне», то художники нам вменяли в вину Borderline, почему, мол, эта выставка была сделана не так, почему не вошли те или иные художники, однако Borderline указала на одну из возможных точек зрения на развитие современного искусства в Украине.
К. М.: В какой-то мере Borderline стала попыткой делокализировать эту «Новую волну», то есть расширить представление о тогдашних художественных процессах, не ограничиваясь только Киевом и Одессой. И такой способ рассказывать историю освобождает от мифологического взгляда.
Вообще мне кажется, что послеперестроечное время – это время тотальной эйфории, связанной также с переходом от государственных закупок к первым частным продажам. Но я думаю, что паркомовцев вряд ли покупали в худфонды.
Т. К.: Ну, хотя работа Ройтбурда, которую мы взяли на выставку, была из Дирекции выставок Союза художников. Собственно, конец 1980-х показал, что система, хоть и не соответствуя новым процессам, продолжала функционировать, а «Паркоммуна», застав вот эту последнюю отрыжку системы, использовала доступный административный ресурс.
К. М.: То же можно сказать и о самом доме на ул. Парижской Коммуны. Пока можно, мы будем жить в этом доме, пока нас не выгонят. Пока можно, мы будем делать выставки на площадках Союза художников. Вот пока, пока еще можно… Вроде как стало можно, но неизвестно сколько это продлится. И вот этот момент – возможность брать все, что можешь, пока можешь.
Т. К.: Урвать.
К. М.: Да, именно урвать. Но на тот момент было понятно, что эта система больше их кормить не сможет, хоть и говорят они, что, мол, они делали что хотели, потому что понимали, что все равно ничего не продадут.
Т. К.: Но, мне кажется, что все равно желание продать во многом связано с продажей «Печали Клеопатры»…
К. М.: Прецедент состоялся…
Т. К.: Состоялся, и действительно – многих мотивировал самим фактом продажи.
К. М.: Я бы назвала это мечтой о новой системе искусства после падения советской.
Когда мы только разрабатывали первые экспозиционные идеи, то это был какой-то архивный восторг. На тот момент у нас было накоплено много архивных материалов и нам хотелось показать их. Показать процесс, когда в подтверждение уже ходовым, уже существующим определениям находишь факты, подкрепляешь эти определения архивными находками. И хотелось показать весь этот процесс в выставке. Но потом мы от этого подхода ушли – дали больше пространства и воздуха для того, чтобы зрителю, критику, искусствоведу, художнику легче было самостоятельно судить.
Т. К.: Да, действительно, мы оперировали самими произведениями. Но сложно говорить о хронологическом подходе, потому что очень сжато время, за четыре года так много всего произошло.
К. М.: Многое определялось какими-то «высшими точками» достигнутого. Похоже на то, после каждого неожиданного успеха им казалось, что так будет дальше всегда. Вот они съездили в довольно богатую по всем меркам резиденцию в Мюнхен на четыре месяца. Видимо, им показалось, что так и будет продолжаться. Что они будут ездить на резиденции, знакомиться с мировым искусством на международных выставках и т.д. Я не уверена в том, что они обязательно были в восторге от того, что на них обрушивались все достижения западноевропейского искусства в одночасье. Но по крайней мере они поняли, что можно жить и так, как, в принципе, сейчас и живут многие художники: от резиденции к резиденции, входя в новые контексты, получая новые инструменты.


Т. К.: Но мне кажется, что было также какое-то чувство страха от того, что, посетив ту же Документу, все они, живописцы, увидели, что работают в другой художественной парадигме.
К. М.: Ну да, страх ненужности своего инструментария, который десятилетиями совершенствовался, страх неактуальности, думаю, тоже настигал. Хотя в выставке, которую они там сделали, этого страха не чувствуется. Вот было бы интересно найти еще документацию экспозиции «Ангелов над Украиной», ведь это была одна из громких презентаций современного украинского искусства за рубежом, в Шотландии.
Т. К.: Да, это и к вопросу о сложности производства этой выставки, ведь экспозиция технически довольно проста, но каждая новая находка давалось нам очень сложно. Поиск произведений, документов, каких-то элементарных вещей был крайне затруднен, хотя это совсем недавняя история. Всего двадцать лет.
К. М.: Нужно было показать эту всю географию, вплоть до того, чтобы изучить их маршруты: как они передвигались, где пили кофе, где общались, что читали.
Т. К.: Кстати, момент чтения мы не показали.
К. М.: Да, но это бы сделало нашу выставку культурологической, а мы все-таки тут сосредоточились больше на работах.
Т.К.: Но если посмотреть отстраненно, то отчасти она и получилась культурологической, социологической. В тот период был создан огромный массив художественных произведений. Вот, например, Сенченко в разговоре сказал: поразительно, что мы передали ощущение «Паркоммуны», не показав знаковых произведений того времени. Передали ауру и дух места, возможность абсурдных жестов в публичном пространстве, взаимоотношения художников с системой.
К. М.: Сначала казалось, что это абсолютный андеграунд, потом возник вопрос, был ли андеграунд, была ли традиция андеграунда и какого-либо диссидентства в искусстве. И вопрос, каково было значение Киевского художественного института, например. Тут мне кажется, что очень помогло в этом разобраться то, когда Соловьев рассказывал, кто какие делал дипломные работы и в каких мастерских учился.
Т. К.: Соловьев показал даже большее значение и важность института, чем это сегодня кажется на первый взгляд. Нам думалось, что если мы слишком подчеркнем связь с институтом, то это будет выглядеть как развенчание очередного мифа, но сам Соловьев – человек, который и создал это явление – значительную часть нашей прогулки посвятил именно Alma Mater.
К. М.: Потому что нельзя сказать, что все это они делали вопреки Alma Mater.
Т. К.: Особенно учитывая тот факт, что мастерские использовались летом для работы. Если я не ошибаюсь, то «Сакральный пейзаж Питера Брейгеля» Сенченко был создан в мастерской института.
К. М.: Я себе представляю, как они там работали и какое у них там было «чувство дома». С одной стороны, шел поиск новых домов-сквотов, в которых можно было работать и вместе жить, и в этом вроде была какая-то беспризорность и сиротливость. Но с другой стороны, они могли пойти в художественный институт и взять себе там мастерскую, договорившись с охранником или с кем-то из ректората, – и спокойно работать. То есть по-свойски спокойно договориться везде. Это чувство легкости, ощущение, что все можно сделать легко, по-домашнему. И это ощущение, мне кажется, было все время у них. Так же, как со сквотами, сначала на Ленина, потом на улице Парижской коммуны. Не было, конечно, никакого ощущения стабильности, они понимали, что все может закончиться в любой момент. Потому и ели это все большим половником – всю эту ситуацию. Я думаю, что уже тогда они понимали, что эта ситуация уникальна, что так не будет всегда. Потому что было, с одной стороны, классно, а с другой, как там Гнилицкий сказал Голосию: «Не переживай, Слон, скоро снова все будет плохо». То есть в каком-то смысле вот это «плохо» и было хорошо.
Т. К.: Но это, наверное, какая-то уже глубоко засевшая привычка – понимание того, что если сегодня хорошо, то завтра может стать плохо. Неизвестно, что даст правление нового генсека, какие условия жизни будут тогда. Как во время Оттепели было, наверное, ощущение, что вот она, свобода, но потом через какой-то короткий период времени эта свобода опять закончилась запретами и гонениями. Так что, мол, пользуйся этим удачным моментом! Как писала Наталья Филоненко, «нам по крайней мере казалось, что мы были героями». Художник был героем, хоть и маргиналом, но тем не менее они себя вели как герои. Но мне кажется, что в нашей выставке мы скорее показали, что же стояло за этими поведенческими моделями, какое искусство было создано, не ограничиваясь этим сквотерским романтическим мифом. Помнишь, мы даже думали сделать выставку более архивного типа, но я, честно говоря, не сторонница сугубо архивных экспозиций.
К. М.: Я думаю, что в выставке нужно было показывать этап хотя бы первичной обработки архива, первые выводы, а не вскрывать архив целиком.
Т. К.: Это как раз и есть задача архива, чтобы он был доступным, архив – это источник, с которым можно работать, и любой исследователь на основании этого источника может сделать свое высказывание. Хотя отсутствие архива и недоступность коллекций, отсутствие знаний о местах нахождения самих произведений не дали возможности сделать выставку более наполненной, насыщенной. Вот, например, мне кажется, что слабо прозвучал Василий Цаголов. Но это как раз связано с проблемой отсутствия архива, а также слабым осознанием самими художниками необходимости этих архивов. Впрочем, Цаголов стоит несколько особняком среди всей «Паркоммуны».
К. М.: Они все стоят особняком!

Т. К.: Но в плане освоения других медиа, для меня впереди все-таки Цаголов. Другие художники создавали вот эти альтернативные «мирки», перенося библейские сюжеты, восточные практики, весь карнавал своих жизней на холст. А Цаголов как раз иначе смотрел на мир, не через картину, а через мир новых медиа. Мне кажется, у него был отличный от других художественный метод. Даже тематически у него другая проблематика, это и «Криминальная неделя», и «Мир без идей». Савадов и Сенченко тоже стояли отдельно. Вот, например, их персональная выставка в Центральном Доме Художника в Москве в 1991-м году была проектом уже зрелых художников, а на улице Парижской коммуны еще все только заваривалось.
К. М.: Ну, конечно, это была старая привычка ориентироваться на Москву, да и через Москву все дороги вели на Запад. И понятно было, что художественная ситуация в Москве совершенно другая. Мне кажется, здесь была очень важной выставка «Вавилон» Марата Гельмана. Там он пытался паркомовцев включить в более широкое понятие, чем «Новая волна», – в «Южнорусскою волну», для того, чтобы найти им достойное место в общем пространстве постсоветского искусства. Но мне кажется, что выставка «Вавилон» больше повлияла на коллекционеров. Наверное, на это и был расчет у Гельмана. А московское художественное сообщество по поводу киевских больших и ярких полотен восторга не испытало.
Т. К.: И не просто привычка, а желание добиться успеха. А Москва и была единственным путем к нему. Те же персональные выставки в ЦДХ Голосия и Савадова-Сенченко показали эту возможность успеха. Как показал ее тот факт, что Эндрю Браун (куратор выставки «Ангелы над Украиной» в 1993 году в Эдинбурге) познакомился с киевским искусством именно через московских коллег.
К. М.: Понятно было, что в Москве гораздо больше возможностей, в том числе и коммерческих. Здесь же скорее было желание показать свою особость.
Т. К.: Может, нужно было создавать собственное уникальное сообщество, собственный институт критики? Прямо в 1990-м году? Но либо это было невозможно, либо попытки были несостоятельными, либо не было интеллектуальной традиции, способной очертить самодостаточные явления здесь. С другой же стороны были сохранившиеся связи после распада той страны и формирования новых государств.
К. М.: Когда была жива традиция ехать в Москву за успехом, многие художники там и оставались. Какое-то время Голосий жил в Москве и большая коллекция его работ там до сих пор. Но, видимо, не прозвучали они так, как хотели, раз никто из них не остался.
Т. К.: Но тот же Голосий заключил договор с галереей «Риджина». Значит, на тот момент у нас просто не было предложений для художников. А корпоративные коллекции, которые были созданы, или коллекция Татьяны Кренделевой? У нас ни к чему нет доступа, только сейчас вот появился доступ к коллекции Градобанка. Где все те корпоративные коллекции? Если говорить о том же Голосие, то «Риджина» создала каталог его работ. Может, его творчество и не проанализировано, не изучено достаточно с искусствоведческой точки зрения, но есть материалы, они в открытом доступе… В каталоге около 300 произведений, можно брать и анализировать. Но где все, что было создано и куплено в украинские коллекции? Где оно сейчас?